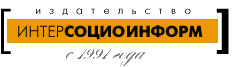Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
СТРАНИЦЫ САЙТА ПОЭТА ВЛАДИМИРА МОЩЕНКО(АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 1, 2000) ]
В Переделкине, на даче В.Соколова. Фото А.Н.Кривомазова, 2005.
ВЛАДИМИР МОЩЕНКО ВИШНЁВЫЙ ПЕРЕУЛОК
* * * Скажи, зачем из рук Аблая Ты принял в юрте пиалу? Ни воя не страшась, ни лая, Зачем пошёл искать стрелу? Ведь ею он попал в верблюда. И видел ты, как тот к воде Всё полз, теряя кровь, покуда Губою не прилип к звезде. * *
* На всю округу – вересковый чад. И до того весна уже большая, Что снова птицы севера кричат, Все остальные звуки заглушая. У берега – лиловая вода Под валунами и над валунами. И чей-то шёпот: «Не умрёшь ты? Да?» «Конечно, да. Но это – между нами». НА ВОСТОКЕ ЭДЕМА
1
Галине
Климовой Ты?! Наконец! Иди за мной вослед. Открой глаза. Смотри: земля Халила. Вот золото и оникс. Вот браслет – Я утром смастерил, чтоб ты носила. Да, он тебе к лицу. Я очень рад. Зачем ты шепчешь мне, что ты раздета? Купаться хочешь? Вот река Евфрат. Нет, это не объятья. Волны это. Ну что с тобой? Всё хмель тебе да хмель. Пьянит тебя, всего скорее, хвоя. Пускай опять за речкой Хиддекель Резвятся звери, и трубя и воя. Да, это губы. Хорошо: уста! Да, без тебя я ничего не стою. Вчера ещё земля была пуста, И Божий Дух носился над водою. А ты всё: хмель да хмель… Нет, виноград! Пора бы лечь? Да что с тобой – не время. Дрожишь? Не бойся. То ползучий гад. Он вечно там, где закипает семя. 2
Я спрячусь. И в травы лицом упаду. Укроюсь листвою и шкурой. Жена зарыдает в Эдемском саду И сразу же станет понурой. Я понял, во что превращу эту плоть, Какую судьбу ей готовлю. За-ради неё, милосердный Господь, Разрушу небесную кровлю. И карканье всюду: «Скорей бы он сдох!» – Как жало ползучего гада. И мы услыхали, о Боже, Твой вздох В тиши Гефсиманского сада. 3 Забор. Потом ещё забор. Не для забавы – для острастки. Мы сад Эдемский с давних пор Упрямо делим на участки. Вот подорожник. Вот лопух. А это заросли малины. И крылья мотыльков и мух В ячейках липкой паутины. За этим садом – снова сад И двор таинственный соседский. Оттуда голоса звучат Невнятно – старческий и детский. БОРОВОЕ, 42-Й
1 В Боровое собирайся, в ту страну, Где ты в Щучьем первый раз пошёл ко дну – Да и вынырнул: «А я не утону!» Кто-то каркал, что зачахнешь, - не зачах. Золотишко, будто скиф, искал в ручьях И в казачьих незатупленных речах. Не загнись, дурак, прошу тебя добром, Побывай ещё разок в сорок втором: Там Синюха, там кумыс, там «Маслопром». Отыщи строку в «Танцующем лесу», Как нашла Козетта ночью двадцать су. На валун присядь – и я тебя спасу. 2 Я, осенённый тенью террикона, Взращённый солнцем в чеховской степи, Увидел бор – и он многоколонно Открылся вдруг, позвав меня: «Вступи!» Вчерашний день, и штампик похоронки, И эшелоны – всё уже вдали. Меня, гурьбою обступив, сосёнки К столетним соснам тут же повели. Смола струится в воздухе прогретом. Весь бор сегодня – будто богослов. Не зря я озарён янтарным светом Среди взлетевших к небесам стволов. Здесь всюду царство хвои и гранита, Оленьих троп и лебединых стай. Здесь Книга Книг – она всегда раскрыта. Страницу за страницею читай. Вот рысий след. Чуть дальше – след копытный. За валунами, в двух шагах – обрыв. А здесь стоял охотник первобытный, Своё копьё в раздумьи опустив. 3 Когда я грыз с братишкой жмых, Чтоб не терзала голодуха, Колёса мельниц водяных Крутила лихо Громотуха. Полуторка была пуста… Я понял истину святую: Колёса мельниц неспроста Крутила речка вхолостую. И ей и мне неведом гнев. Давным-давно уже не кутим. Теряя русло, обмелев, Мы всё равно колёса крутим. И, получив своё под дых, Забуду ль, как, вздыхая тяжко, В карманы мне совали жмых Не раз казачка и казашка. 4 Иголочная прелая подстилка. И редколесных взгорий желтизна. Там, где Чебачье, смолкла лесопилка. Снежок срывался ночью – вот те на. Кизильник до сих пор ещё заснежен. И ягоды почти что не горчат. А за трухлявой кучею валежин Я вижу сразу нескольких бельчат. «Ау!» – я слышу в воздухе обманном. Волнуется, должно быть, военрук. Уже с утра, окутана туманом, Синюха невидимкой стала вдруг. Да где же ты, гранитная громада? Через неделю кончатся дожди. Пусть ягоды горчат. Мне знать не надо, Что ждёт меня, что будет впереди. 5 У косули разъезжаются копытца. До подножного ей корма не пробиться: Вот такой заледеневший наст – Ни былинки, ни листочка не отдаст. То-то похороны стужа правит пышно. То-то егеря-развозчика не слышно. Что ж рожок? Замёрз, должно быть, звук? А мужик-то у Великих Лук. Слышу шёпот: «Здесь глаза мои погасли. Я убит. Я не подброшу сена в ясли. Веников берёзовых иссяк Весь запас, хоть я и так и сяк…» Что ж ты, егерь? Что ж молчишь? Скажи, смогу ли Отвернуться от измученной косули? Вот сухарь – весь в крошках мой сухарь. И сосны рождественский стихарь. 6 Грибами иду поживиться, Капустою заячьей в лес. Смолистые волны живицы Бросаются наперерез. Узнаю потом, что питает Живица скрипичный смычок И в звуке Менухина тает, Чтоб тут же запеть… Но – молчок! Всё это - потом. А сегодня Вдруг птицы притихли кругом, И туча несётся, как сводня, И сходится с молнией гром. И ёлочных лап колыханье, И хвойные мокнут ковры. Глубинок грибное дыханье, Дыханье столетней коры. Боюсь я – и всё же пирую: Не пасынок в этом лесу. И в лагерь рубашку сырую С гостинцами я принесу.
7 Мы смеялись, придурки: «Пфанкухе! Пфанкухе!» Мы орали вослед ему: «Эй, фон барон!» До войны в санатории возле Синюхи Он играл. И рыдал его альт-саксофон. Сколько было доносов и сколько допросов! («О майн Готт, как ужасно засовы скрипят!..») Протянул ему руку однажды Утёсов: - Карл Иванович, вы – из «Весёлых ребят»! С ним дружил одноногий Ибрай Сулейменов – Пианист. Приносил он грибочков ему. И Пфанкухе сказал, что в Берлине джазменов Гитлер всех для начала упрятал в тюрьму. И, рэгтайм напевая, исполненный грусти, Под названьем «Прощались мы, Джонни, у скал», Доставал он из банки солёные грузди И чуток самогона в стаканы плескал. Сторонились казахи его и казаки. Да и мы из рогаток стреляли вдогон. А потом увезли его в ночь в автозаке И впихнули под утро в вонючий вагон.
ПОСЛЕСЛОВИЕ 1 Было ведь: гусиное перо Захлебнулось молодою кровью… Ну а мы? А этот взрыв в метро? Вот Псалтырь – читай про Божью кровлю. Ты не знаешь: скоро мне конец. Где ты притаился? Где ты дышишь? Думаешь, не помню я, малец: Я шепну, но ты ведь не услышишь. Ты всё там же. Ты в сорок втором. Тот же самый конь накрыт попоной. Мы живём в хибарке в Боровом, Рядом с Груней, бывшею поповной. На столе – чернильница, букварь. Песня во дворе. Поют казачки. И мигает до сих пор фонарь Возле станционной водокачки. 2 Вновь с окровавленной плетью Осень идёт по лесам. Новому тысячелетью Буду рассказывать сам: Как подстрелил я марала, Как я заездил коня, Как тяжело умирала Женщина из-за меня. Вот оно, хриплое слово, Словно бы воздух иссяк. Лебеди из Борового – Самый последний косяк. 3 Пусть минул век – я всё равно найду Скатившиеся в Щучье валуны, Замшелую гранитную гряду, А на вершине – те же две сосны. Я озеро Лебяжье отыщу, И там найду я даже лебедей. Басманная, ты видишь: я не мщу. Ключом от дома моего владей. Что напоследок ты, скажи мне, дашь? Ты затоптала все мои следы. Иной мне снится каменный пейзаж: Мне снится воздух каменной гряды.
* * * О.Г.
Нет домов в Вишнёвом переулке – Лишь глубокий голубой просвет. Это точно так же, как в шкатулке Нету писем и записок нет. Только где-то детский голос слышен – Может, за оврагами, внизу. И варенье варится из вишен. Где – не знаю. В золотом тазу. Разве ж не топились эти печи, Не спалось в берёзовом дыму? Мы с тобой поставим в храме свечи, А за что – не скажем никому. * * * Кем я был? Повестушкой короткой, Тою самой подводною лодкой, По которой соскучилось дно. Я был узником всех одиночек. Ты моих не запомнила строчек. Отзовусь я тебе всё равно. И не лгу я, что лиственным словом Отзовусь в переулке Вишнёвом И в шиповнике вдруг прошуршу. Или в поле, меж теми стогами, Стану я золотыми слогами, Недоступными карандашу. * *
* Август. Ночь. Леоновская дача. Прошептали ветки слово «соть». Я подумал: «Вот ведь незадача, Здесь забыли грядки прополоть». И хозяин щуриться не будет, Вглядываясь полночью в тетрадь, И тебя, как раньше, не разбудит, Чтобы «Пирамиду» диктовать. Если б дверцей скрипнула сторожка, Побежал бы пёс тебе вослед, Знал бы я, что хлынет из окошка В темень сада тот же самый свет. Я б сказал: «Царевна Несмеяна! Даже пёс ко мне уже привык. Это ли не рукопись романа – И не черновик, а чистовик!» Август. Ночь. Леоновская дача. Тучи на луну летят вразброд. И совсем как нищенская сдача – Медь листвы у запертых ворот. * * * Ну так что же я? Неужто обездолен? Из Щербинина хоть словом отзовись. Не бывает птичьих гнёзд у колоколен. Но для этих и для тех открыта высь. У тебя в саду весёлый щебет птичий. А на улице моей - колокола. Вот и есть теперь у нас такой обычай: Две дороги, две иконы, два угла.
* * * Нет в Орехове орешника. Нищим здесь не подают. Но зато здесь и для грешника, И для скворушки приют. Званье гения опального Отвергаем мы вдвоём. Мы, певцы района спального, - Всё о нашем, о своём, Всё о нашем, о своём – Не вослед за соловьём. Подпевают всюду птицы нам. Не сыскать таких верхов… Сколько издано Царицыным Ненаписанных стихов!
*
* * Господи!
Пошли мне человека! Эльмира Котляр Кто там? Друг ли? Враг ли? Отступил бы ради Стона и мольбы. Лилией пропахли Зимние тетради – Это знак судьбы. Углублюсь в страницу, Побегу вдогонку – Лишь глаза протру. Дал мне Бог сестрицу, А верней – сестрёнку, А верней – сестру. ГИТАРИСТ ПАНТЕЛЕЙ Кучерявый Пантелей. В пьяном воздухе – елей. Это бабушкин мучитель, Странных звуков сочинитель. «Да не жадничай, налей!» Всё он думал о своём. «Анна Марковна, споём?» Был он бабушки моложе. «Хочешь выпить? Ну так что же? Можно, ежели вдвоём». Как возьмёт минорный лад, Рыщут пальцы наугад, Льётся что-то вроде блюза. «Ах ты, муза моя, муза, Ах ты, бабка двух внучат». Брал меня в кино с собой. Там играл под фильм немой, Клал синкопы в ритме вальса И экрану отдавался Каждой пьяною струной. Люди плакали вокруг. Трогал душу этот звук. Мне терзал он тоже душу. Думал, глядя на Пантюшу: Что как протрезвеет вдруг? ДЖАНГО
РЕЙНХАРДТ Это - джаз для себя… Дж. Р. Пропадал я в таборе, Граппелли. Там цыгане под гитару пели, Сидя у палаток и телег. Ты, Граппелли, мне дороже брата. А трава была голубовата – Под луной казалось: это снег. И Нагин плечом ко мне прижалась – Зря ли к этой ночке наряжалась, Да и я был, Стефан, что твой граф. И про то, как пели мы напару Без гитары или под гитару, Нёс молву цыганский телеграф. УХОДИЛИ НА
ФРОНТ МУЗЫКАНТЫ
Уходили на фронт музыканты. Был ноябрь сорок первого года. А в тридцатых гремели фокстроты В санаториях Славяногорска. И хотелось пижону с корнетом Подражать лупоглазому Сачмо. Но теперь новобранцы играли На перроне «Прощанье славянки». Эта музыка вдоль эшелона Проносилась настырной позёмкой. А потом командир в полушубке Заскрипел на морозе ремнями. Что-то крикнул. Наверно: «Отставить!» И пошёл к головному вагону. И остались лежать на перроне И кларнет, и валторна, и флейта. Только нравилось жить корнетисту, Целоваться и в озере плавать. Он вернулся, нарушив команду, За ещё не остывшей трубою. И вскочил на ходу на подножку, Ощутив нараставшую скорость, И вонзил в мировое пространсто Юной жизни бессмертные звуки. КАССЕТА ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Опять серебряные змеи Через
сугробы поползли… Афанасий ФетА как добраться нам до Чаттануги? А так – не объезжать вот этой вьюги. Несётся мимо древнего погоста Чикагский свинг – и скорость девяносто! Привет, гаишник, вот права, техпаспорт. Прокалывай талон – а мы рванули! Теперь прощай, маши вослед нам палкой, Но мы уже, служивый, не вернёмся На той зелёной «Волге». Только дырка Осталась в белоснежном том пространстве. Осталась только дырка. Только дырка. …Кто б мог тогда подумать, что кассета – Как перекати-поле в строчке Фета.
АРМСТРОНГ
Подносит он к губам трубу. Сверкает запонка в манжете. Предугадав свою судьбу, Не так уж просто жить на свете. И всё накалено вокруг. Свистят фанаты оголтело. Негромкий голос. Хриплый звук. И что? Вот в этом-то и дело? А рядом саксофона медь – Соперница, но и подмога. А ты? И ты умеешь петь? Умеешь петь? Побойся Бога.
ПРОЩАЙ, ПЕЧАЛЬНАЯ ТРУБА
Звоню. - «Такой здесь не живёт». «Давно?» - «Да уж который год. Покинул, стало быть, Ордынку. Снесла я в мусоропровод Его пластинки, прорву нот И эту… как её… сурдинку. Звонила бывшая жена. Видать, мадам была пьяна. Маришка, что ли?» - «Да, Маришка». «А был ведь кандидат наук. Ему же вечно снился звук. Ну, в общем, жалкий трубачишка». Листаю старый «Даун бит»: «Он пьёт. Небрит. Почти забыт. Майлс Дэвис говорит: «Он гений!» Хрущобы. Мокрый снег. Судьба. Прощай, печальная труба. По мне, так нету вдохновенней. В дни «перестройки» был слушок: Бутылки собирал в мешок Чувак, с тобою схожий вроде, Затем (невыпивший причём) С подслеповатым скрипачом Играл в подземном переходе.
МИСТЕР «МАТОВЫЙ ЗВУК»
…Но Майлсу Дэйвису сказали, Что вряд ли кто сидящий в зале Поймёт трубы его полёт. И он, рассерженный и хмурый, Всю ночь сидит над партитурой: Ошибку ищет. Не найдёт! * *
* Писать бы Вас тургеневским пером, А не моим. Но только описать бы Тот самый дух помещичьей усадьбы… (Перекрещусь, пока не грянул гром!) Венецианские Вас любят зеркала Не меньше, чем уланы и гусары. Мазуркой первой бредят эти залы. - И ты? - И я! Ведь до чего мила! - Ну да. И неприступна, чёрт возьми. … Прошли года. А Вы ещё милее, Особенно когда Вы по аллее В столовую идёте с дочерьми. - Ну, каковы? - А, ты про трёх сестёр! …Прошли года. А Вы ещё моложе. (Прости мне строчку, милосердный Боже, Которую, одумавшись, я стёр.) СЛУЧАЙ В СТЕПЛАГЕ Ставили жизнь его на кон Зеки, играя в буру. Спрятанный нарами, дьякон Думал: «Ведь завтра помру…» В спину вонзится заточка. Станет в забое светло. Тут он узрит ангелочка. Душу подхватит крыло. Господи, разве ж для клетки Небу угодный распев! Свесится из вагонетки Эта рука, помертвев. Кто же он? Искорка. Искра. Зван был он или не зван, Спит он, и видится Истра – Бедной Руси Иордан. ВЕЛИКИЙ ПЯТОК Воробышкам зёрнышек бросив, «Снимаем?» – спросил Никодим. И, перекрестившись, Иосиф К распятью поднялся за ним. «Ты знаешь, за что нам молиться?» «Да что ж, я глупее камней?» Великий пяток. Плащаница. И тело Спасителя в ней. То были не лица, а лики. Солдаты забыли латынь. Засохла на кончике пики Кровь нашего Бога. Аминь. УТРОМ
БЕЛО ОЗЕРО ТУМАННО
Почерк Саввы, иеромонаха: «Я цыдулку тайно передам, Патриарше Никон. Как ты там?..» Что ответить? Что приснилась плаха? Что не ведал, слава Богу, страха? Что из рощи выпорхнула птаха И прошелестела по кустам? Утром Бело озеро туманно. Пахнет камышами и кугой. Прихвостни царёвы, ни ногой К вам я, порождения дурмана, Ни за что, лишённый вами сана, Никогда, ведь был я постоянно Соловецкой пустыни изгой. Фёдор Алексеевич, ты плачешь. Ты меня жалеешь. Это зря. А тем паче – вслух не говоря. Ты в карман платок голландский прячешь. Ты ль мою судьбу переиначишь? Перед кем ты задницу отклячишь, Ты, слуга Небесного Царя?
* * * Здесь и ищи мои следы И тайну поворота: Лубянка. Чистые Пруды. И Красные Ворота. Когда б не печи адский гул, Не над погостом птицы, Уж ни за что б не зачеркнул Те самые страницы.
* * * Под деревянной рясою аббата – Бутылочка. Спасибо старине! Хотя сливянка эта слабовата, Да крепче, чем любовь твоя ко мне. Розовощёкий, толстый, будто кружка, Стоит на полке кёльнский хитрован. И предлагает выпить нам пьянчужка, Увидев, что закончился роман. Внутри, где голова, сокрыта пробка. Блестят глаза прохвоста озорно. Пей за разлуку. Не гляди так робко. И я не откажусь. Мне всё равно. Давно с тобою не играю в прятки. Недаром ухмыляется аббат. Когда я соберу свои манатки, Скажу, что только он и виноват. Скажу, что он, конечно же, мошенник, Что я его простил уже почти. Ну, будь здорова. Доставай свой веник, За мною дверь закрой и подмети.
* * * Вишь, как оголилось корневище! Вишь, как взволновался краснотал! Там, где прежде было городище, Радонеж удельный засиял. Терема. Палаты. И лачуги. Переулок травами пропах. После боя сброшены кольчуги. Синий ветер. Паруса рубах. Господи, как загляделся Сергий! А над ним, желтея добела, Словно бриллиантовые серьги, Вдеты прямо в солнце купола. * *
* Бубновых и червовых нет мастей. Идут одни трефовки и пиковки. «Пас!» – говорю. А листья всё красней. И всё ползут к трамвайной остановке. Они на рельсах – будто знак беды. И прилипают намертво к брусчатке. Уничтожает дождь мои следы Проворней, чем преступник – отпечатки. И козыри мои пришли к концу. И через эту лиственную вьюгу По рельсам, по Бульварному кольцу Бреду – и всё по кругу, всё по кругу. * * *
Я совсем не хотел о войне,
я хотел о весне… Александр РевичВ этой строчке переводят стрелки: Отстают часы на пять минут. А в землянке после перестрелки Водку пьют и сухари грызут. Капитан стоит у патефона. Вот пластинки кто-то приволок. Значит, будет эта ночь бессонна – С козырною дамой без чулок. А девчонка подставляет щёчку: «Может, потанцуем, капитан?» Он ещё напишет эту строчку. Выстрелит ещё его наган. Рифмы в вальсе кружатся покуда, Чтобы слышно было из окна, Как беспечно звякает посуда, Как блатная музыка хмельна В Кракове я встретил эту строчку, Где подковы в темени искрят. Так что возвращай долги в рассрочку, Если пощадил тебя штрафбат.
* * * Вмёрзли твои пароходы В лёд опозданий
моих… Владимир СоколовСегодня на снегу твой болдинский листок. Ты с нами нежен был. Ты с нами был жесток. В Квишхети лунный блеск ударил по клинку. Ты помнишь? Но кому ты посвятил строку? Холодная звезда притягивает свет. Холодная звезда. Лирический поэт.
* * *
Скорей бы утро… Борис Рахманин.«Русская ночная жизнь»Лужи – будто пролили чернила. Тень у металлических ворот. Дачное крыльцо твоё прогнило. Всё равно хозяин не придёт. Не придёт – вооружиться лупой Там, где сосны – сразу за стеной, И за-ради страсти самой глупой С русской жизнью встретиться ночной. Льют дожди. И пахнут тёсом доски. Виден переделкинский погост. Над двором прославленного тёзки В небе тоже не отыщешь звёзд. Электричкой пронеслось словечко. Или, может быть, наоборот? Прохудилось дачное крылечко. Тень у металлических ворот.
* *
* До чего ж облупился наличник! Стёкла выбиты. Кухня пуста. Я люблю этот мир, как язычник, Обретающий веру в Христа. На крылечке прогнившем – картонка. Здесь бутылки – каких только нет! Там, где прежде висела иконка, В полумраке колеблется свет. Я люблю этот мир, где разбито Не одно лишь в окошке стекло, Где в примёрзшее к почве корыто Столько ржавой воды натекло.
ЗАКАТ Деревьев строй на косогоре До удивления сквозной – Быть может, оттого, что вскоре Он станет чёрною стеной. Не зря шаги утихли сзади. Не зря от сердца отлегло. Не зря, накопленное за день, В лицо ударило тепло.
* * * Прощай, душа моя! Вздыхает. Ночь. Вьюга. Снежная пыльца. А колокольчик затихает – Всё дальше, дальше от крыльца. Зачем же он сутулил плечи? Зачем внезапно замолкал, Спешил и щурился на свечи, Оставил полным свой бокал? Уйти с мороза нету воли. Пустынно сердцу и уму. Прощай, душа моя. Легко ли В дом возвратиться одному?
* * * Было весело в Твери. Ничего не пожалели. Громко хлопали дверьми. Выходили на аллеи. Свечи яркие в руках Полыхали на морозе, Как в державинских стихах Или в гоголевской прозе. Шуба падает с плеча. И в пути, безумно скользком, Со свечой слилась свеча, Породнившись ярым воском. Что же в парке том теперь? Как быстра была кибитка! Уносилась в полночь Тверь И последняя калитка. Распакованный багаж Сиротлив при свете новом. И рисует карандаш То, чего не скажешь словом.
* * * И увидел коршун под собою Всех зверей, идущих к водопою. На заре он прилетел сюда: Снилась ночью коршуну вода. Снилось, что понёсся он вдогонку Видящему тень его мышонку – И подумал вдруг на высоте: «Крылья у меня уже не те…» А ведь был он вечно тенью злою. Но в годах сравнялся со скалою. Перья поседевшие в гнезде. Что-то тянет коршуна к воде. Сел над речкой, на краю обрыва. А косуля до чего пуглива! И кричит злорадно вороньё, Что ему совсем не до неё… В
АВТОБУСЕ Еду. Что там шепчут за спиной? Первая неделя. Перегрузки. У меня в кармане проездной. Приказали: ни гу-гу по-русски. Господи, как выщерблен кирпич! Мне ль забыть солдатскую науку… Я молчу. А мраморный Ильич Даже здесь протягивает руку. Остановка. Свадьба. Храм. Июль. Но стенная летопись сурова, Потому что в ней – следы от пуль: Это шрамы пятьдесят шестого. Съёжился я. Что там говорят? Может быть, не обо мне всё это? У меня в руках – «Хаджи Мурат», Где репей, не годный для букета. Будапешт СВИДАНИЕ С АГНЕШКОЙ
Здесь даже иглы сосен мягче глаз, Ревниво не дававших нам прохода. Но вот и Пасха. И к тому ж у нас Есть время от восхода до захода. Я прохожу Рыбацкий бастион. Вот башенка Марии Магдалины. Я в церкви Николаевской крещён. Я верю: мы с тобою не повинны. Но отчего ныряю в тень, как зверь, С твоим письмом, написанным стихами? Я постучу. И ты откроешь дверь. И я тогда плесну в тебя духами. А ты подашь в ответ стакан вина, Преподнесёшь пасхальное яичко. Мне тридцать три. И ты мне спеть должна: «Зачем из клетки выпорхнула птичка?» Будапешт АКВИНКУМ Здесь прокуратор нежил тело В бассейне мраморном своём. Скажи, ну что ему за дело, Что в нашем веке мы живём, Что, дождь осенний проклиная И виноватые во всём, Уединившись, у Дуная Мы в сумерках сосну трясём. Он ждёт, наверное, Катона. А мы? Что ожидает нас? У мелководного затона Трясём сосну в последний раз. Дробятся фонари в затоне. Твой жалкий вскрик – в моей горсти. И я уже готов Юноне Любую жертву принести. Будапешт МАРГИТСИГЕТ Говорила ты, что мы невинны, Если только мы любви слабей. Молоды замшелые руины Островной обители твоей. Ты укрылась посреди Дуная, На дверях не вешала замок И Христу молилась, вспоминая Каждого, кто спрятаться не мог. И твоя молитва не забыта. Да и как же нам её забыть. Грешник я, святая Маргарита, Так что дай мне силы разлюбить. Будапешт
ШАНДОР ПЕТЁФИ Эх вы, желторотые поэты, Не для вас цыганские куплеты, – Про коварство всё, не про любовь. Сколоти мне, черноокий, зыбку. Я женюсь. И ты для свадьбы скрипку С голосом кремонским приготовь. Кто там врёт: «Гулящая девица»? – Чтоб вам, окаянным, удавиться. Не пройду девчонку стороной. Плюнь, цыган, не верят в это струны, Да и табор есть, и ночи лунны. Я приду к ней: «Стань моей женой!» Ты сыграй, а я скажу: «Прощаю! Всех вином токайским угощаю!» Пусть глядят нам с завистью вослед. Я не знаю в мире лучшей прозы, Чем когда скрипят, цыган, обозы. Для меня – так только ты поэт!» Будапешт ПЕСЕНКА
О ПОХИТИТЕЛЯХ В тронный зал влетела вдруг ворона: «Хороша у Иштвана корона! Хороша, да сгинет не за грош». Не спасали пики и пищали. Сколько раз корону похищали! Стыд какой! Неслыханный грабёж. Поданные Иштвана, не спите! Вот её хорваты держат в Сплите. Немцы вслед кричат: «Не отдадим!» Не бывало большего урона У мадьяр: ведь где она, корона? Иштван Первый стал давно святым. Вновь на подоконнике – ворона: «Что корона! Где твоя Илона? Проворонил, горе-ухажёр!» Да ведь я-то кто? Ведь я писака, А Илона модница, однако. Спёр Илону коммивояжёр. Будапешт СТЕПНАЯ ПЕСЕНКА ПРО
ДЮЛУ ЧИКОША Дюла Чикош, а на что мы гожи? Огонёк в глазах у нас потух. А вот ты когда-то у вельможи Йолику отбил свою, пастух. Мы бы – что? Поникли б головою. Ты не тратил, Чикош, даже дня: «Ну, за дело, а не то завою. Я же не винтовка без ремня». Саблю взял, как помолился Богу. В пусте знают, что такое стыд. В пусте, если выйдешь на дорогу, Сразу же со всех сторон открыт. В пусте – ни оврага, ни кургана. Кой-где кустик. Кой-где деревцо. Но ведь Йоли до чего румяна, И у Йоли белое лицо! Ты отбил невесту на рассвете, Саблю над вельможею занёс. И сказал: «Оставь-ка штучки эти. Тут и без тебя хватает слёз!» Ну а мы-то… Сам ты, Дюла, видишь. Сколько их, проглоченных обид! Если, Чикош, в эту пусту выйдешь, – Сразу же со всех сторон открыт. Будапешт «ВЕСЁЛЫЙ БАРАК»
Говорит он: «К чёрту экивоки. И скажу я, лабухи, вот так: Мы – джазмены, мы – в Восточном блоке, Но зато как весел наш барак. Пропущу-ка я стаканчик виски. Чей заквас во мне? И вправду: чей?» И ответил сам же по-английски: «Все мы – от цыганских скрипачей». Летом он Граппелли слушал в Ницце. Дал зимою в морду стукачу Розочка горит в его петлице. «Я напился. Я играть хочу. Чардаш? Нет. Ведь ночь – для «Звёздной пыли». Выпьем мы и унесёмся вдаль!» До сих пор в «Савое» не забыли, Как смеялся плачущий рояль.
ДВЕ ЗАПИСКИ 1 ЖЕНЕ Пусть не притронуться – взглянуть, Узнать упавшую на грудь Ту, петроградскую, косынку, Слизнуть солёную слезинку. А дальше… там уж как-нибудь. А был ли тот Зелёный Дом В Бутырском Хуторе и в нём Курсистка (в облаках витала, А также в главах «Капитала»)? Давай туда мы завернём – Чтобы к Ханжонкову в кино Пойти. Как было там темно! Слепящий луч бродил в Нью-Йорке, Искал на новогодней ёлке Детей, одетых в домино. Жизнь всё давала нам взаймы! Под Нижним Новгородом мы, Где бьют на ярмарке фонтаны. И мы целуемся. Мы пьяны. Коврами устланы холмы. И казачки пускались в пляс. И Собинов рыдал для нас, И ты была не то, что Недда. И я забыл слова: «победа», «Подполье» и «рабочий класс». Но… хватит. Есть лишь пять минут. О Господи, что скажешь тут. Спешу, чтоб не подвергнуть риску Друзей, которые записку Тебе тайком передадут. Меня б, наверно, Киров спас. С ним в бой ходили мы не раз. Мы вместе в Астрахани были. (Зачёркнуто: «Ногами били…») Вот и аукнулось сейчас. Всё было на моём веку. Рубил я шашкой на скаку, Как будто бы Чапай, с оттяжкой. Представь себе, той самой шашкой Теперь снесут мою башку. Вложил бы шашку я в ножны: Живым живые мы нужны – И вот хоть что, хоть ставьте к стенке! Прочь, Емельяны! Сгиньте, Стеньки! За мной прийти сейчас должны. К твоей косынке я приник. Найди мой каторжный дневник. Пускай его читает дочка. Я перед Богом каюсь. Точка. Так и скажи ей. Напрямик.
2
ОТЦУ Отрёкшемуся сыну нет Прощенья. Знаю твой ответ. И к твоему иду порогу. Известно мне, что тридцать лет Ты за меня молился Богу. Опять метелица мела. И вновь златились купола В ветвях заснеженных. И снова Шептал: «Да не сгорит дотла Душа, лишённая Покрова. Я сына проморгал. Беда. Он был мальчонкой. Он тогда Со мною зажигал лампадку. К нему сходила на кроватку, Сияя, Рождества звезда. Отец, мне б – к твоему крыльцу, Впервые бы – лицом к лицу, Чтоб ты прикрыл меня собою, Чтобы рукою голубою Погладил. Всё идёт к концу. Сегодня вспомнил поутру Москву-реку, Спас на Бору, Тебя напротив нашей школы, Избу отшельника Вуколы. Всё это я с собой беру. Мы встретимся когда-нибудь. Ах, если б только всё вернуть – И сосны, и на соснах свечи, И наш с тобой тот самый путь В снегу до церковки Предтечи!.. * *
* «Будешь помнить?» - «Конечно. Всегда». Вот теперь все узлы развязали. Я с рожденья любил поезда. Всё с нуля начинал на вокзале. Пусть Безглазая точит косу. Ставлю крестик – пусть ставит свой нолик. Я букетик фиалок внесу И в вагоне поставлю на столик. Те же станции и города. Всюду балки, берёзы, бочаги. Нанадёжное слово «всегда» – Это всё-таки признак отваги. * *
* Вот старый Бахмут. Вот речная излука. Соборная площадь. Гудящий базар. Скрипенье подвод. Родословная звука. Пускай и убогий, но всё-таки дар. А солнце! А запах плетённой корзины! Холодная Балка. Болото. Лозняк. И крик мотовоза. И скорость дрезины. Открытые окна. И лунный сквозняк. Плакучие ивы. И вот уж Бахмутка. А там, у моста, камыши кое-где. И выстрел отца. И подбитая утка. И кровь на крыле. И круги по воде. И Южный вокзал. И вагон. И разлука. И сельское кладбище. И вороньё. Подарок судьбы. Родословная звука. Богатство моё и несчастье моё.
ДО ВОЙНЫ Когда все были живы и здоровы, По улице окраинной брели, Вздымая пыль, мычащие коровы. И запах свежевскопанной земли Мне нравился. Я видел, как лопата Лежала у распахнутых ворот. И чей-то голос: «Это «Травиата»!» Потом - другой: «Совсем наоборот. Не “Травиата” – Бог с тобой: “Аида”». И звуки репродуктора в окне. А я страдал, не подавая вида: Вот так в кино пойти хотелось мне! В тот год мы часто Чаплина смотрели. Я ничего не знал тогда смешней. Огни Большого Города горели В душе едва проснувшейся моей. Ещё я помню: с нашим домом рядом. У церкви выгружали кирпичи. Она уже давно служила складом, Тут больше не святили куличи. Гудков далёких паровозных зовы. Фиалки. Сумрак. Шорохи. Теплынь. Тогда все были живы и здоровы. И наш сосед преподавал латынь. * *
* Не помню я, в каком году, Но точно помню, что в июне Купали молнию в саду – Подружку бронзы и латуни. И что-то вдруг открылось мне – Пусть даже не до половины. И стёкла треснули в окне, И стали парусом гардины. МЕЛАНЬЯ СЕМЁНОВНА Пришла ты в апреле восьмого числа. Ты нас разыскала, согрела, спасла. Икону Царицы Небесной внесла В домишко, недавней бомбёжкой помятый. Сказала: «Сынок, не грызи карандаш. Поправишься ты и экзамены сдашь». Конечно, ты помнишь. Весна. Сорок пятый. При чём же тут годы? При чём тут погост? Меланья Семёновна, кончился пост. У нас впереди – Николаевский мост. Китайских фонариков звёздочки всюду. Они – продолженье пасхальных свечей. Кончается ночь. Аромат куличей. Чей взгляд у тебя? Догадаться бы – чей. И первая зелень, подобная чуду. Чей взгляд у тебя? Но не задан вопрос. Я всё-таки выжил и всё же подрос. Меланья Семёновна, слышишь: «Христос Воскресе!» И новая радость ответа. И вот Николаевский мост позади. Цветастая шаль у тебя на груди. «Стучись хорошенько да всех разбуди!» Ещё не светает, но сколько же света! ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ Как богато мы, нищие, жили! Ты почти что босой – всё равно! Для тебя – Тито Гобби и Джильи. Это юность. И это кино. Ведь для умного и для тупицы Был тогда одинаковый шанс, Если, кроме «Индийской гробницы», Демонстрировали «Дилижанс». И трубач по фамилии Грегер Нам играл в подворотне рэгтайм. А потом симпатичный бутлегер Погибал ради тайны из тайн. Славлю щедрости кинопроката За влюблённую насмерть трубу, За судьбу фантазёра-солдата С верой в женщин и с пулей во лбу. * *
* В последний раз через Бахмутку Иду по мартовскому льду И свёртываю самокрутку (Махорку у отца краду). Я в школе не решу задачу, Потом с уроков убегу. Подальше свой дневник запрячу, В нём – твой беретик на снегу. В нём допоздна в толпе толкаюсь (Плечом прижаться бы к плечу…) И, как Печорин, я не каюсь, И, как Грушницкий, не шучу… И всё-таки снега сгорели, И содрогнулся небосвод. А что произошло в апреле – Про то иной рассказ пойдёт. * * * Возле церкви Вознесенья Пахнет тленом и рекой. Неужели на спасенье Нет надежды никакой? За оврагом – китежанки, Различимые едва. Над могилою крестьянки – Полустёртые слова.
* *
* Ангеле святый, твою поруку, Твои крылья ощущаю въявь. Укрепи мою худую руку И на путь спасения наставь. На земле держусь я что есть мочи, На земле, боготворящей высь. Ты прости мне дни мои и ночи, За меня ко Господу молись. ПЕРВЫЙ ДНЕВНИК Я ещё никого не теряю. Я ещё не любую строку, Не любые слова доверяю По ночам своему дневнику. Часто почерк горяч и неловок. Здесь не только полынь и чабрец. Здесь немало девичьих головок И пронзённых стрелою сердец. Это послевоенные годы. Лихорадки июльской азы. Ощущенье недетской свободы Как степной и опасной грозы.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЕРБНОЕ Воскресенье вербное. Снег сошёл с могил. Знаю слово верное И не разлюбил. Головокружение. Потеплело вдруг. Храм Преображения. Венчики вокруг. Дело перед Пасхою. Там – отец. Там – брат. Пахнет свежей краскою Множество оград. Чья-то жизнь короткая Обожжёт огнём. Вот и стопка с водкою И стакан с вином. На скамье истерзанной – Свежий огурец, Чёрный хлеб нарезанный, Солнце и скворец.
* * * Сказал рассудку вопреки, Не помышляя об удаче. Там, по ту сторону строки, Не так, как здесь, там всё иначе. Там – несгоревшие дрова, Хоть тень от дыма – на сугробе. Там и жена моя жива, Которая теперь во гробе. Не вздрагивай. Не прекослословь. Жизнь не приестся, не насытит. Там, по сторону, любовь. И жалок всё-таки эпитет. Вчера цвели в тайге жарки – И новый год уже сегодня. Но по сторону строки - Господня воля. Да, Господня. * * * Я увидел спозаранок Незнакомый полустанок. Три минуты остановка. И перронная возня. Здесь не девушки – девчата. И ведь это жизнь не чья-то, А моя и для меня. Так врываются нежданно Полусвет и полумрак. «Где ещё два чемодана? Где записка для Ивана? Ну, пора. Прощай, казак!» Так привычно и так странно. Спешка. Запахи. Сквозняк. Вот «КамАЗ», а вот телега. «Глянь, казак мой пьян в дугу!» Здесь почти что нету снега, А ведь скоро и Онега, Где обычно всё в снегу. Я увидел спозаранок, Как деревьям нужен свет, Как скребут полозья санок По земле, где снега нет.
ВИФЛЕЕМ ПОД РОЖДЕСТВО
Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеемом, с Мариею, обручённою ему
женою, которая была беременна. Лука, 2: 4-5Путникам открылся наконец Город, где Иосифа отец Говорил: «Сынок, наш род – Давидов». Люди гнали блеющих овец. Дрогнул на ягнёнке бубенец, Засветился, будто леденец, По-ребячьи тайну взяв и выдав. За ягнёнком тайну вызнал ключ. Он поймал звезды зелёный луч, Говорлив, прозрачен и колюч. В скольких душах он ещё ударит Звоном не цепей – колоколов. Сколько самых небывалых слов, Сколько откровений, сколько снов Миру он и явит и подарит! И дрожал овечий бубенец, Тронув чем-то множество сердец. Он-то знал, Кто истинный отец, Зримый всей земною детворою. И родник хотел снега поджечь, Выучив евангельскую речь, Чтобы эту ночь навек сберечь: «Припади ко мне – я всё открою!» МАЛЬЧИК
ИИСУС Ненужные, лежат в углу игрушки. Он плотничает. Он вошёл во вкус. И стряхивает розовые стружки С волос и платья Мальчик Иисус. Луч солнечный. Опилки. Их слиянье. В окошке – трепет блещущей листвы. Июль. И жаркий полдень. И сиянье Вокруг Его ребячьей головы. Скрипит верстак. Но мира отголоски Доносятся в распахнутую дверь. Иосиф с полу поднимает доски И говорит Ему: «Семь раз отмерь…» Торопятся: ведь завтра – день базарный. А у Марии грустное лицо. Освоила Она верстак столярный. И всё молчит. И крутит колесо. ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХА Спускались они с Елеонской горы. Встречал их народ, покидая дворы. Встречали их визги и смех детворы. Он ехал на ослике в чьей-то одежде. Но даже и в ней узнавали Христа. И кланялись люди Ему непроста, Особо радушные после поста. Всё было не так. И всё было, как прежде. Один только Он понимал – почему. И люди дарили одежды Ему. «Учитель, мы верим Тебе одному». И ветки бросали они на дорогу. Хотелось им слова Его и чудес, Хотелось, чтоб Он не погиб, не исчез. И вдруг Он почувствовал близость небес, Доступную лишь милосердному Богу. Чертили орланы над ними круги. А люди просили Его: «Помоги!» И были они фарисеям враги. Тогда фарисеи Ему и сказали: «Откуда Ты взял Своих учеников? Народ они мутят. Народ бестолков. Вели же молчать им вовеки веков. Не жди, Иисус, чтоб и их наказали». И так Он ответил: «Нельзя им молчать. Нельзя наложить на уста их печать. Нельзя, говорю вам. Иначе кричать Начнут даже эти холодные камни. Не требуйте. Я говорю вам: нельзя. Живёте вы в страхе, друг друга грызя. И знают Мои, а не ваши друзья: Открыты Мне души, открыты века Мне». А ветер пасхальный свежей и свежей. И вступит Он в храм. И прогонит взашей Оттуда менял, ловкачей, торгашей И даст голубям наконец-то свободу. И будет улыбка Иуды хитра. И что-то прочтёт Он во взгляде Петра. (Но как же смеялась, визжа, детвора!..) И грустно поднимет глаза к небосводу. МАЛХ, РАБ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА Я никогда не нарушал закона. Ну что ты хочешь, я всего лишь раб. Да не забудь про гнев Синедриона. Я слаб, конечно. Ну а кто не слаб? Об Иисусе всё мне рассказали. Стоял босой Он и почти нагой. Ему связали руки. Так связали, Что от души я пнул Его ногой. И мне кивнул тогда первосвященник: «Давай-ка, Малх!» И стих тотчас же гул. Не думай, я совсем не из-за денег: Клянусь, я от души Его лягнул. Потом ещё, ещё. И чертыхнулся: Мол, ненормальный Ты. Блаженный, мол. А Он в ответ смущённо улыбнулся. Да, улыбнулся. И глаза отвёл. ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНЬЯ Хоть была Голгофа наяву, Утром Ты пришёл ко Мне нежданно. Я не одинока. Я живу, Как велел Ты, в доме Иоанна. Чей-то ослик около крыльца. Улицы обыденные звуки. Не забуду Твоего лица И гримасу нестерпимой муки. И следы Я помню от гвоздей. Я Твои поцеловала ноги. Я решила быть среди людей, Выбрала, Сынок, Твои дороги. Ходят к нам Твои ученики, Просят у Меня благословенья. Ты не осуждай Моей тоски Ныне, в годовщину воскресенья. Если ночью не смыкаю глаз, Я с Тобой. Меня Ты не оставишь. И в «Сионской горнице» для нас Ты опять Своё бессмертье явишь. Тянутся томительные дни. Знает мир: пуста Твоя могила. Ну а тех, кто требовал: «Распни!», Я и пожалела и простила. МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ Я не имела своего угла. Меня стыдилась нищенка-старуха. Она вослед шипела: «Ну и шлюха!» Но у мужчин я денег не брала. Зосима, отче, нет прощенья мне. Была доступна я и солдатне, И торгашам, на всё для них готова. Один матрос меня на корабле Позвал, куражась и навеселе, И я пошла, не проронив ни слова. Когда же Иерусалимский храм Мне двери не открыл свои ни разу, Себя я ощутила как проказу, И как чуму, и как кромешный срам. И мне за то удел был высший дан. Я поняла: так жить – невыносимо. Три хлеба я взяла с собой, Зосима, И плача перешла за Иордан. Тот день я помню, отче, и поныне. Я наконец была одна в пустыне. И лев прошёл спокойно стороной. Здесь только Бог беседовал со мною. Смотри, я воспаряю над землёю. Ведь это Он, Зосима, правит мной. Я о пощаде и не заикаюсь. Я сокрушаюсь каждый день, я каюсь. Благослови – молю тебя в тоске. Неграмотной росла, жила в незнанье. Но я своё оставлю завещанье – Вот здесь же начертаю, на песке. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
В ИЗГНАНИИ Горная деревня. Утром всё в тумане. Рядом с перевалом для меня приют. Знают все тропинки местные армяне И ещё до солнца по делам идут. Тут немногословны утром разговоры. Тишину тревожит только детский плач. Я, антиохиец, изгнан в эти горы. На крыльце стою я, запахнувши плащ. С вечера был дождик. Почернел мой тополь. Но пока не время снегу и ветрам. Этой ночью снился мне Константинополь, Снилась литургия, снился мне мой храм. А в костре потухшем тлеет головешка. Буйволы пасутся, медленно жуют. Бог с тобой, царица, пава, сладкоежка, Рядом с облаками разве не живут? Запрягает лошадь мой сосед-возница. И дымок завился над печной трубой. Вот и вышло солнце. Бог с тобой, царица, Сладкоежка, пава. Слышишь, Бог с тобой. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА Что, копьё, ты знаешь? Что ты знаешь, знаешь меч? Красоту такую надобно беречь. «Помогите, боги, пьющие росу! Я вам на закате жертву принесу…» Диоскор Варвару в башне запирал, А ключи с собою, хмыкнув, забирал. Днём она смотрела жадно из окна. В синем небе горы видела она. Думала о крыльях, глядя на орла… «Матушка, к несчастью, рано умерла. Где-то там, далёко, за оврагом – сад. Снится мне: на ветках яблоки висят…» Синь рекою льётся – шторы лишь раздвинь. Девушка спросила у своих рабынь: «Я уже гадала раз, наверно, сто: Кто всё это создал? Ну скажите: кто?» «Кто же как не боги! Понимать пора. Даром, что ли, этот весь из серебра. Ну а этот идол, глянь-ка, золотой. Ты, Варвара, лучше у окна не стой!» Диоскор Варвару под замком хранил. «Ты совсем чужая», - каждый день бранил. Брал её за косы. «Рад тебе помочь. Божествам, однако, поклоняйся, дочь». И однажды ночью к ней пришёл ответ: Воссиял над нею Негасимый Свет. И, своё волненье силясь побороть, Девушка сказала: «Это мой Господь». И почуял что-то хитрый Диоскор. «Твой отец, голубка, на решенья скор. Выдам завтра замуж – поумнеешь враз». Идолы на полке не смыкали глаз. «Мне совсем не надо женихов твоих. Есть уже небесный у меня Жених!» «Горе мне, о боги, что за срамота! Значит, ты, Варвара, празднуешь Христа?!» И её раздели тут же догола. «Господи, Владыко!» – девушка звала. «Пусть воловьи жилы жгут тебя до слёз. Где же твой Спаситель? Где же твой Христос?» Грохот барабанов. Завыванье труб. Ах, отец-язычник, до чего он глуп. Пьяные солдаты меч ему несут. Слыхом не слыхали: скоро Божий суд. «Смерть тебе!» – воскликнул на заре отец. И ушла Варвара к Богу под венец. ФИЛАРЕТ-МИЛОСТИВЫЙ Всё несут и несут у тебя со двора. Страсть к наживе сильна в человеке. Нет в твоей почивальне уже и ковра. Ты кому его отдал? Калеке? И Феозва, жена твоя, много ль спасла? Руки к небу она воздевала. Ты ведь отдал вола, ты ведь отдал осла. Не лишиться б ещё одеяла. Дочерей ты не слушал, не слушал жены. Спал спокойно в своей благостыни. Должен ты, Филарет, а тебе не должны, В том числе и рабы и рабыни. Ухмыляется зависть, злорадствует спесь: Мол, не выдержит всё-таки, сдастся. Но ты прав, Филарет, что воздастся не здесь. Да, Феозва, любому воздастся. КНЯГИНЯ ОЛЬГА Плакала над Игорем, выла до утра. И горели факелы над волной Днепра. Господи мой, Господи, сможешь ли простить? Я была язычницей. Я умела мстить. Девою Обидою вскормлена была. О душе загубленной бьют в колокола. И древляне падали. Падали – кто где. Кто на узкой улочке, ну а кто в воде. Церкви я построила, чтоб вину избыть. Всё равно я, Господи, не могу забыть. Боже, избы корчились в пламени-огне. И застрял мальчоночка в выбитом окне. Вижу снова: трогает он траву рукой, Тоненькой, повиснувшей, мёртвою такой. Я шептала, пьяная: «Ладно. Ничего…» Винные, невинные – все за одного. Все – за князя Игоря. Господи, прости! Видятся побитые. Взгляд не отвести. Видится мне девушка, руки чьи вразлёт. Юная древляночка. Незакрытый рот. Косы в красной лужице, и копьё в спине. Перед смертью крикнула: «Ой, не надо, не…» Слышала я, Господи, голос Твой: «Не тронь!» В том окошке отрока пожирал огонь. Не успел он выпрыгнуть, и в груди стрела. Золотые волосы выгорят дотла. Я над тем пожарищем птицею кружу. Я заупокойную службу отслужу. И в соборе полночью, гулком и пустом, Я перед иконою осенюсь крестом. О тебе, древляночка, криком я кричу. Нет конца рыданиям. Ставлю я свечу. И ещё за отрока. За тебя, сынок. Лик Твой, Богородица, этой ночью строг. Годы и столетия не развеют грусть. Пусть за них помолятся и помянут пусть. СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ Во дворцах и в избах лесом пахли ёлки. Шёл проспектом Невским барин в треуголке. Спал ямщик, подвыпив и забыв про вожжи. Серафим молился: «Помоги нам, Боже!» В церковке больничной рядом с ним старушки Медные монеты опускали в кружки. Рождество встречали песнями крестьянки. Сельские мальчишки оседлали санки. А разбойник плачет. Да ещё как плачет. Голову в ладонях заскорузлых прячет. Топором ударил старца он давно ли. Сам и помирает от великой боли. Не было в той келье клада-захорона. Несколько картошин и одна икона. В церковке больничной служат литургию. Серафим Саровский видит всю Россию. Видит всю Россию. Силы убывают. Силы убывают. Люди убивают. Вот уже у старца поникают плечи. Но ко всем иконам он поставит свечи. Своего убийцу Серафим не бросит: У Христа с поклоном милосердья просит, Чтобы завтра в келье и уснуть навеки, Видя след пожара в этом человеке, Чтоб уснуть на Книге, здесь, на аналое, В день, открытый снегу и смолистой хвое. * *
* Всё
думаю, всё думаю, всё думаю, Как мне поменьше думать о тебе… Светлана Кузнецова А в шестидесятых было так… Я не плачу, я смеюсь – дурак. В восемнадцать двадцать улетаю. Вслух твои «Проталины» читаю. Не взлетел, а в облаках витаю. Ведь не на год расстаёмся. Мрак. Мы с тобой во Внукове сидим, Где не поощряется интим. Мне б завыть. Но я всё это скрою. Я игрок, и я живу игрою! Не пересечётся твой Витим С вышедшей из берегов Курою. Буду проклинать я в Тианети Через пару дней мгновенья эти. Тианети – вечности причал. Там меня обступят ночью горы. Ничего не стоят разговоры. Ничего. Уж лучше бы молчал. Девочка, ты – женщина и гений. Вот он, плен твоих стихотворений. Я не прав. Тебе не до забав. В самой страшной тишине обвала Ты мне даже смертью доказала – Даже смертью, как я был не прав. * *
*
Как кошка, падаю на все четыре лапы,
Не становясь от этого умней… Светлана КузнецоваПерстни с кольцами снять уж пора. Из ушей надо вынуть серёжки. А теперь говори до утра, Как живут камышовые кошки. Были заросли прежде густы, Но они продирались повсюду. И вздымались победно хвосты. Не забуду тебя, не забуду. Пусть вода по соседству темна, Словно страсти кошачьей изнанка. Как знакома мне эта спина, Все изгибы её и осанка! Слыша сердца тугие толчки, Рвутся жилы высокого стебля, Чтоб зрачки поглощали зрачки, Это жёлтое пламя колебля. В них пощады не сможешь прочесть. Но глаза не напрасно жестоки. Просто шерсть, задевая о шерсть, Исторгает зелёные токи. Просто чуткие лапы горды. Просто хищно смыкаются веки. От когтей и от воплей следы В камышах остаются навеки. * * * Я был до ужаса обычен, К тому ж ещё косноязычен, Но отчего-то мне везло. Меня не отвергали боги – Хута, Резо, Алеко, Гоги. Я с ними пил в Сабуртало. Я знал, что рано или поздно Обман разоблачится грозно – И спросят: «Кто же ты такой?» Я с ними пел. И песни эти Мы продолжали в Тианети, Где трогал я луну рукой. И, отодвинув вдруг стаканы, Я стал читать стихи Светланы Про Енисей и про Байкал. Прости, но, может быть, впервые Вникал я в строки снеговые, В пургу иркутскую вникал. * *
* Мы живём, под собою не чуя
страны. Осип МандельштамИтак, графа: особые приметы. Оставим без вниманья этот взгляд. Так смотрят перед гибелью поэты, Ничтожные, когда они раздеты. …С горбинкой нос, а также лысоват. Грудь и живот, напротив, волосаты. Вот отпечаток пальца. Вот цитаты. И что смеялся? Постарел. И нищ. Здесь нет ещё одной – последней – даты. Но всюду здесь сиянье голенищ.
КЕТЕВАН Она и в бане думает о бале. «Назло княгине всё-таки приду! Но почему же в ортачальской бане Сегодня пахнет серой, как в аду?» А тёрщицы восторга не скрывали, И раболепство было в их руках. Они ей говорили: «Генацвале!» И добавляли только: «Вах! Вах! Вах!» Они таких и мяли здесь и тёрли – Сверкала ортачальская вода! Но чтоб вот так перехватило в горле?! Свидетель это небо – никогда. Персидской шалью покрывая плечи, Она в окно глядела на заре. И проплывали, будто в храме, свечи На плотике по вспененной Куре. Конечно, князь их собственной рукою Зажёг во имя сердца Кетеван. С какой печалью, с горечью какою Он сел в пропахший чесноком рыдван? Ей донесли курдянки как товарки, Что сохнет он по ней уже давно. Пусть сохнет! Не нужны его подарки! Браслет и тот швырнула за окно. Двор подметая, хищные болтуньи Не стали молчаливей и добрей, Когда владелец лодки из Батуми Прислал ей сизокрылых голубей. У рыбака прокуренная трубка, Чуть-чуть дымя, торчит всегда в зубах. Вот на комоде голубь и голубка – И нежность голубиная в зобах. И сладострастно сизый голубь стонет. Луна садится прямо на карниз. А что рыбак? Он, может быть, утонет, А может, скажет: «Уезжай в Тифлис!» * *
* И
странно слово вдруг: исход… Александр ЦыбулевскийНу открой же тайну мне, открой. Ну хоть намекни, по крайней мере: Где же ты? В ущелье над Курой? В Вардзии? И скрылся там в пещере? Но в какой? Хоть строчкой подскажи. Может быть, напрасны эти страхи. В городе подземном этажи Возвели давным-давно монахи. Ты любил в духане пить вино. Так зачем же засиделся в келье? Там погасли свечи. Там темно. Чем тебя прельстило подземелье? Этот факел не тебе несут. Надо поскорей перекреститься. Ты у фресок – там, где «Страшный суд», Где Тамара всё ещё царица. ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ Древняя обитель. Майский небосвод. Спит Давид Строитель Прямо у ворот. Так судьба судила. Он молвой храним. Тишина. Могила. Вечный крест над ним. Спит и видит горы – Те, что зелены. Да и те, что голы, Навевают сны. Армия Давида Где-то рядом спит. У солдат обида: Нет над ними плит. Половцами были Воины его. Степь одну любили – Больше ничего. Тюркские глаголы Из глубин веков Оглашают долы Звоном родников. КВИШХЕТИ Ещё покуда «оттепель» в разгаре. Дал Нонешвили мне «Матрёнин двор». Нас угощают чачей на базаре И затевают о Хрущёве спор. И я боржомом чачу запиваю И слушаю гремящую Куру. Предательство в горах я забываю И забываю то, что я умру. . Но шорохи ночные не забыты В кладбищенской тиши, где средь оград Лежат пришельцев каменные плиты, Кресты их победителей стоят. * * * Стенали яростно, навзрыд… Александр Межиров Ты не проспался, дядя Зурико? Выходишь ты на улицу в трико. «Памир» закуришь, стоя у ворот. А там Манана улицу метёт. Вся в золоте, орудует метлой. И думает: «Хоть глупый, да не злой». А ты в заботах с самого утра: Опохмелиться вроде бы пора. Твою щетину бритва не берёт. Манана усмехается: «Урод!» Врёт девка. Ты позировал Ладо, И был Ладо доволен – от и до. «Шарманщик» - называется портрет. Самой шарманки на портрете нет. А жаль! Такая в Грузии одна: На ней русалка изображена. Ладонью щёчку подперев, лежит И ждёт, что будет музыка навзрыд. И вместе с нею нужно к десяти На Спуск Верийский, как всегда, идти. Стакан вина – и всё бы по плечу! «Одно и то же целый век верчу – И ничего не требую взамен…» И заиграешь арию Кармен. * *
* Анне ЛоранБыла поэма девять лет назад: «Пти-Монпарнас», и Люксембургский сад, И Сена – без подсказок и цитат. Ещё нет листьев и уже нет почек. Парижская весна без проволочек. Губительна она для одиночек. Кто виноват? Да я и виноват. Была поэма девять лет назад. А что осталось? Только девять строчек. * *
* У речушки, у холма, у стога, У последней на земле версты Я благодарю сегодня Бога За преодоленье немоты. И за тайну древнего кургана, И за то, что так сильна Угра, И за Откровенье Иоанна, И за два послания Петра. РУБЧАТЫЙ
СЛЕД
Внуку ДмитриюПосоветовать, что ли, ребёнку: Отложи, моё солнышко, мяч, Запиши своё детство на плёнку И кассету волшебную спрячь. Видно, верю и я не на шутку Колдовству святогорских синиц Так, как верят, найдя незабудку В книге между линялых страниц. Ведь однажды такая накатит По твоей голубятне тоска, Что и книги старинной не хватит И её голубого цветка. И попросишь у жизни впервые Хоть на миг возвратить наконец Степь, и кручи ещё меловые, И ещё обмелевший Донец, И шуршание велосипеда, И тропинку, и рубчатый след, И мультфильмы в коттедже соседа, И догадку: а смерти-то нет! Будет старою эта кассета. И в динамиках новых времён Ты услышишь и сосен, и лета Голоса: «Это он! Это он!» А ещё ты услышишь, мой мальчик, В тишине високосный зенит, И оранжевый теннисный мячик На асфальте опять зазвенит. На асфальте, где были хвоинки, Постепенно терявшие цвет. И отыщешь на той же тропинке Нестираемый рубчатый след. * *
* А.М. Совок с метлой стоят в углу. Намокла под дождём фанера. Вот ходит голубь по столу В кафе заброшенного сквера. Стакан с окурками на дне, Где истину искать не надо И где, отчётливо вполне, Мазок оставила помада. Что это? Сцена из кино, С ума сводившего когда-то? Да нет. Я жду тебя давно Здесь, где часы без циферблата. * *
* След ещё не успел и простыть, А уже покраснела рябина. Ты не можешь мне сына простить, Твоего, но не нашего сына. Рад тебе хоть немного помочь. И, бывает, почти успокою – Ты можешь простить мою дочь, Потому что не наша с тобою.
* * * Ты лету ничего не задолжала. А я должник. И ты меня прости За то, что под сосной от карнавала Осталась только горстка конфетти. Легко скоропалительное лето Бросало из любого рукава Кружочки соблазнительного цвета, Чтоб у меня кружилась голова. * *
* Весна запоздала, и не было лета. Но только закончился ливень с утра – И вмиг половодье горячего света. И не потеплело, а просто жара. В такую-то пору ещё не созрели Ни сливы, ни яблоки. В этом году Всё шло с запозданием на две недели. И вот уже солнце в продрогшем саду. И я, укрываясь за кучею брёвен, Читал «Карамазовых» – первую часть. А там – что ни слово: виновен, виновен! Я буду наказан, я должен пропасть. Ты тут же напомнила: осень в разгаре, Велела деревья поджечь сентябрю. Сказала, что я в этом самом пожаре Со всеми стихами своими сгорю. * *
* Квиты мы или не квиты, Сердишься всё-таки зря. В клетке арбузы покрыты Лёгким снежком октября. Плачешь, что ты одинока, И торжествуешь тайком. Струйка арбузного сока Розовым стала ледком. АПРЕЛЬ Узнай, что снова птичья перепалка, Когда слепит ручья электросварка, Когда из-за прижмуренных ресниц Не видно в солнце утонувших птиц. Паруются пернатые и звери. Победа страсти. Баховский хорал. Где новый дом твой? Там закрыты двери. А старый дом давно ты потерял. Глянь на сосну – на лапе там не снег ли? Последняя седмица. И четверг. А новую любовь твою отвергли, А старую любовь ты сам отверг. * *
*
Михаилу
Мильману Вот квинтет играет Баха в синагоге. Это – страсти, это – голос твой, Матфей. Музыкант от Бога думает о Боге, Безразлично, кто он – немец ли, еврей. Воздух становился музыкою Баха Там, где обрывался выстрелами смех, Там, где, обернувшись горсточкою праха, Медленно мы падали, Господи, на снег. Что с виолончелью? Заблудилась где-то. Звук безумно близок, ибо так далёк, Будто лютый холод и руины гетто, Будто уплывающий в небеса дымок. НОЧНОЙ СНЕГ Благословляя мой ночлег, И всё же нелюдим, Шептал он: «Я почти не снег. Мне нужен псевдоним». Он шёл, как будто бы винясь За тайные грехи, Как будто бы великий князь, Слагающий стихи. Шёл снег и был всего белей. И видел я в окно Его – принявшим вид церквей, Которых нет давно. Он был не снег. Он был снежок. И, хоть сереброкрыл, Он красоту вернуть не мог, Зато уродство скрыл.
БАКЕНЩИК В гимнастёрке выцветшей, в пилотке По Донцу скользил в кромешной тьме На своей видавшей виды лодке С лампою шахтёрской на корме. Были звёзды скрыты облаками. И, спиною ощутив озноб, Брал он вёсла влажными руками, Но теченью верил – и не грёб.
*
* * Я ещё воспою Покрова на Нерли За молитву «Печали мои утоли». Я ещё Покрова на Нерли воспою За Твой отзыв, мой Спасе, и правду Твою. Я ещё воспою на Нерли Покрова За права на нетленные эти слова. * *
* Морозца сладостный ожог, И в змейку свившийся снежок, И хрупкий лист позавчерашний… А что со мною будет впредь И научусь ли вдаль смотреть Ещё умнее и бесстрашней? БИЛЬБАО В порту на стенах – изумрудный плеск. Мох на камнях гранитного забора. И ратуши модерн. И шпиля блеск. И готика старинного собора. Блг с ним. Предпочитаю ерунду, Я радуюсь, что эти звуки вздорны, Что я за этой музыкой иду. Ах, как фальшивят флейты и валторны! Оркестрику на улочке крутой Не уместиться – вот и лезет в гору, Туда, где беломраморный святой Над белою скалой открылся взору. Я тоже лезу вверх, толпой влеком. Я тоже руки к вечности воздену. А вечером затравленным быком Я выскочу, ослепнув, на арену. АРАНХУЭС Весенняя столица королей - Аранхуэс, щебечущая птаха. С ним рядом протекая, веселей Становится в апреле речка Тахо. Такой же эта девушка была! Как музыки рождающейся иго, Она вспорхнула вдруг из-за стола В кафе, где песню сочинял Родриго. Сама гитара и сама струна, Вдруг побежала, ветру не переча. И не взглянула на тебя она, Не ведая, что значит эта встреча. А песенку как хочешь назови. Не до неё. Тут слышен гул органа. Оранхуэс. Мелодия любви. Его незаживающая рана. МАРИЯ Детство, детство – поминай как звали! «Браво! Браво!» – хлопают льстецы. Что тебе на память отковали Хитрые цыгане-кузнецы? А всего-то подарили брошку – Ей песета красная цена. Ты была артисткой понарошку, А теперь без сцены ты больна. Девочка, ты стала самозванкой, Пляшущей, поющею цыганкой. Видно, заразил тебя пример Самых знаменитых петенер. Только удивляться я не стану: Знаю, чьи костры в твоей судьбе. Помолись святому Каэтану – Может быть, поможет он тебе. * * * Эта книжечка вздоха короче И Чумацкого Шляха длинней. В ней качаются гнёзда сорочьи Посреди узловатых ветвей. Только проза, одна только проза Обернуться захочет строкой, Как далёкий фонарь мотовоза, Отражённый ночною рекой. ПО ПУТИ В СОЦГОРОДОК Вот ветер был за Джезказганом! Мы с мамой шли в соцгородок. И в этом воздухе стеклянном Уже я двигаться не мог. И вьюга мне глаза колола И люто била по ногам. А в это время наша школа В тепле читала по слогам. Я стал почти что как ледышка. Вокруг – синё. Хоть волком вой. И вдруг я вижу: рядом – вышка, На ней – в тулупе часовой. Он закричал: «А ну, отрава! Погибель ищешь пацану? С дороги повертай направо. Давай скорей – не то пальну!» И тут раздался голос зека: «Ведь там сугробы, душегуб!» У пожилого человека Чернели корки вместо губ. Стоял он около подвала. И свирепел собачий лай. А мама до смерти устала. «Стреляй! – сказала. – Ну, стреляй!» * *
* Алексею
Баташёву Ледоход – и траурная медь! Приторный и чёрный ветер дунул… «Кончилась зима – и умереть… Господи, помилуй!» – ты подумал. Пели птицы мощно и взахлёб. Лаяли щенята в чьих-то сенцах. Рядом проносили красный гроб, Чтобы опустить на полотенцах. Шапку снял и пот отёр со лба. Подсмотрел, что было полвторого. И ещё отметил, что труба В общем-то к печали не готова. ПРОЩАНЬЕ С МАГИСТРАТСКОЙ УЛИЦЕЙ Тебя в лицо не подстеречь: Оно то
девичье, то сычье. Юродствует
косноязычье – Скрещённая
нуждою речь. Из стихов о Донбассе 70-х гг.
Пора обратиться к Чумацкому Шляху, Где солью гружённые плыли возы И где мой прапрадед, пугаясь грозы, Крестился, а ветер пузырил рубаху; К ставкам, где русалки базарно бедрасты, С хвостами, похожими чем-то на ласты, Совсем голубые под голой луной; Да к балке со всеми её тайниками, Да к тем тополям, что стоят над ставками, Пропахшие солнцем и пылью степной. Так вот, мой прапрадед – всему и начало. Он душу свою просолил в солеварне, И горькую пил и, попавшись, в остроге Буянил и песни разбойные пел. «Мне снится не девушка. Снится темница. И тенью на песню решётка ложится. Я весел, когда не пуста моя чарка, Когда таракан заползает в свекольник. Я в шахте невольник. В степи я невольник. И выпивки в долг не даёт мне шинкарка…» Узнал солевар о хозяйском подвале, Где было шампанское из-за границы. И двери взломал – и уже через миг Текли по рубашке шипучие струи. «Ох, Господи Боже, грехи наши тяжки, Но мы обойдёмся и без каталажки. Достался нам борщик с пампушкой и взвар. Кондратий Булавин в степи взбунтовался, А я не сховался, а я отозвался: Секирой умеет махать
солевар!» Погиб он, добравшись до Сальских степей. Казалось ему перед смертью, что в небо Летит не дымок от последней затяжки, - Летит от него то ли снег, то ли пепел. И помер с догадкой: да это же соль Уходит из тела с душой окаянной. А дед мой Андрей был великий сапожник. И что ж? Взбеленился однажды Андрей, Увидевши панночку Ясю из Лодзи И то, как крестилась она, католичка, И книжки Мицкевича ночью читала. Ходила по комнате в тонкой сорочке И что-то искала в полунощной строчке. На дерево влазил красавец Андрей – В окошко заглядывал, губы кусая. О, как же прельстительна ножка босая! Снимай же сорочку свою поскорей! А днём не стихала Андрея гитара. И что-то заметила пани Барбара, Ждала, что заткнётся сосед, протрезвев. А он принимался за дело сначала. И пани Барбара сердито сказала: «Глупота! – И снова: - Глупота! Пся крев!» И жинка Андрея, суровая Анна Обиды стерпеть уж никак не могла. Поймала она петуха покрупнее И стала сапожника бить петухом. «По-польски лопочешь во сне, кобеляка! С гитарой сидишь у пропойцы-поляка. На панночку пялишь глаза: ох да ох… Скажите, какая же Ясенька цаца! Всё ножки тебе этой панночки снятся… Да ты божевольный! Да чтобы ты сдох!» Он ей не ответил ни взглядом, ни словом. Ушёл, черноусый и чернобородый. А вечером он застрелился. И дым Взлетел над колодками, над инструментом. Одни тополя догадались тогда, Что это всё те же кристаллики соли Уходит из тела с душой окаянной. (А что же с гитарой Андреевой сталось? Она по наследству Пантюше досталась. Пантюша был жулик. Он жил через двор. Но это, пожалуй, другой разговор…) Я знал, отчего не жилось моим предкам. И всё-таки я ликовал, как Том Сойер, Которому небо открылось в пещере. Кончалась война. И в отеческий край Настала пора наконец возвращаться Из синего плена озёр Борового, Из плена гранитного царства Синюхи. Сентябрь сорок третьего солнечным был. В те дни постоянно я видел во сне Наш дом, а вернее – луну и руины. Проснусь – и все мысли о бабушке Анне. Погибла она перед нашим приездом: Осколок настиг её возле крылечка (Бомбили тогда Николаевский мост). Ведь бабушке дома никак не сиделось. Всё бегала, бедная, на перекрёсток. Её закопали без гроба за домом И бросили в яму проклятый осколок. Соседи сказали: «Тут рядом болото. Тут где ни копнёте – одна только соль. Достанете Марковну, будто живую…» И я представлял, просыпаясь внезапно, Как врежется в мокрую землю лопата… Я всё не умнел. «Ты - кусок дурака!» - Я слышал. Но память была коротка. И я применял королевский гамбит, И жертвовал пешки, потом и фигуры В сыром павильончике парка культуры. И третьеразрядником был я побит. И всё это – вместо уроков, конечно. А как я писал сочинения в школе? Стихами! К тому же трёхстопным хореем… И ставили мне в дневнике единицу С позорной пометкой: «Не списывай впредь!» И это не всё. Длинноногая Люська Отвергла меня. Был тогда выходной. А рядышком где-то капуста тушилась. Но главное – Люська духами душилась, На брёвнах она загорала со мной. Гнал ветер и стружки, и шарики пакли. И Люськины руки лавандою пахли. Зевнула она. «Ты и вправду шпана… И пол земляной в вашей хате. И мама Не любит тебя». «Это что, мелодрама?» - Спросил я. «Дурак!» – закричала она. Забыть ли, как Люськина мама с портфелем Ко мне подошла: «А ещё комсомолец. Отстань от девчонки сейчас же! Ты слышишь? Картёжник! Прогульщик!» И я ей пропел: «Мне снится не Люська. Мне снится темница. И тенью решётка на песню ложится. Мне снится, как прадеду, полная чарка, И снится Бермудский ещё треугольник. Прощайте, мадам. Я же троечник-школьник. Но я не завою, как ваша овчарка». Она удалилась. А следом и Люська Записочкой мне сообщила печально, Что больше не будет на брёвнах лежать Со мною, дыша ароматом осоки, Персидской сирени, смолы и помойки, Не будет сплетенья неопытных рук. И я от бессилья у рыбокоптильни Заплакал, узнав, как слеза солона. И дул ветерочек с Чумацкого Шляха. И путь этот млечен, и путь этот вечен. А я? Ничего я не понял в тот вечер. Меня признавали в росе лопухи. Я шёл посреди гималайских отрогов, Забыв об оценках моих педагогов И веря по-прежнему только в стихи. Моя Магистратская улица знала О брызгах шампанского в недрах подвала: «Попробовать хочешь? Ну, что же, изволь. И, как ни вертись, только время наступит – И в строчках твоих непременно проступит – Ты понял? - всё та же бахмутская соль». НОЧЬ В СВЯТОГОРСКЕ Ну вот, мы с ней впервые в Святогорске. «Я столько сосен раньше не видала!» (Её с рожденья окружали шахты.) «Скажи, а Калка далеко отсюда?» «Недалеко. У Красного Лимана». И я спросил, её косы касаясь: «Ты Кончаковна или Ярославна?» «Ни та и ни другая. Я зегзица». «А ты хоть знаешь, что это за птица?» Мы с нею жили в разных измереньях. Я уповал на близость этой ночью. Нам сторож от спортзала дал ключи: «Спать будете на волейбольной сетке. Не жарко, да. Так нынче не сезон». И я от счастья «Чаттанугу-чучу» Насвистывал. Что хочешь, то и делай! Она, смеясь, спросила: «Ты откуда? А может быть, из Солнечной долины?» «Нет, - говорю, - из зала ожиданья». «Из зала ожиданья? Бедный мой. Меня ты ждал?» - «Кого ж ещё, подумай». А что вчера со мною приключилось? Я к ней спешил, статью свою закончив О комсомольцах из колхоза «Путь…» Чего – не помню. Может, Ильича, А может, коммунизма. И машина В колдобине застряла, вся в грязи, Рычала, вырывалась – и напрасно. Дождём дорогу развезло. А снег Уже во всём предчувствовался первый. Я вылез из кабины и пешком Потопал на ночь глядя, чтоб не видеть Разруху эту, заросли бурьяна. Она из музучилища. Она Пришла ко мне из «Половецких плясок». Она на крыльях ветра прилетела. На крыльях ветра, Боже! Оттого-то У чернобровой что за косы были. Ковыльные – по цвету и на ощупь. Я научился гладить без боязни Те косы, расплетать их и мириться С упрёками, что я не музыкален, Что не могу никак запомнить арий Ни князя Игоря, ни Кончака. «Ах, дирижёрша, - я шептал смиренно, - Но я же в хор к тебе не набиваюсь». И я шагал в грязище по колено. А где-то там, в сияющем окне, Любой увидеть мог бы дирижёршу, Девчонку, возомнившую себя Достойной самого Роберто Бенци. Я знал, о чём поёт тот дерзкий хор, - О скосырянке, о её фигурке. Теперь она моя! «Отдай ключи», - Она сказала около спортзала. «Да что с тобой?» - «Давай ключи скорее. Где почивала здесь Екатерина? Пойдём искать следы императрицы, - Они, пожалуй, у монастыря. Потом пойдём на меловые кручи – И будем петь дуэтом». - «Ладно, будем». И мы пошли, оставив наши вещи В двух-трёх шагах от волейбольной сетки.
ВОСПОМИНАНИЕ О 16 МАРТА А на что рассчитывать ты мог? Почки на кустах набухли снова. Над рыбокоптильнею дымок – Чуть повыше запаха спиртного. Может, ты увидел вдалеке Чёрный блеск запиленной пластинки И себя – уже в другом дымке, В слове, горьковатом, как поминки. Мотовозик гроб кому-то вёз. Мостовая вдрызг была разбита. А на ней – и лужи, и навоз, И ещё кусочки антрацита. Ты каких подарков ждёшь, малыш? Разве март – не о тебе забота? Что же ты, растерянный, стоишь У ворот стекольного завода? Рядом – кучи битого стекла. Это сшибки света, радуг сшибки. Это жизнь тебя подстерегла – Что с того, что, может, по ошибке.
* * * А. К. В разгаре московского лета Приедет за Вами карета. Жаль, правда мне не по плечу: Что Вы самозванка – молчу. А в том переулке – церквушки. Блестят позолотой макушки. Над папертью – вспыхнувший лик. Я плачу. И грех мой велик. Войдёте Вы с дочкой Марьяной В карету с улыбкою странной, Как будто оставите Вы Кому-то Москву без Москвы. И вмиг облетит для кого-то С макушек церквей позолота. Но вот уже сел мужичок На бархатный свой облучок. «Ах, барин, словечки – убоги. А верю я только в дороги, Да в ветер, да в промельк берёз, Да в ямы, да в кнут, да в овёс». * *
* Ну, хватит! Не правда ли, жалки Любые другие слова… Закончены все перепалки, Сгорели сырые дрова. Вот молния ринулась в Каму – И снова наплыв темноты. Я тоже, как молния, кану, Чтоб даже не слышала ты * *
* Я себе никогда не прощу Этот обморок, эту попытку! Будто вновь отворю я калитку И беседку в саду разыщу. Разве могут меня оправдать Эти струны чонгури в духане, Эти пальцы, что пахли духами И чужую листали тетрадь?
* * * Вода у берега дрожала, Как будто губы от обиды. И были к берегу прибиты Щепа и ветка краснотала. А лебеди на миг вернулись И, шеи выгнув, обернулись. «Ну вспомни, как я их любила. Однажды мы с тобой проснулись От этих крыльев. Нас знобило…» Не так всё было. Ты забыла. Они ведь нас не помирили. Вот потому и закричали. Взметнулись. Ангелы печали. С водою крылья говорили. С водою крылья говорили. * *
* Слова нетленные напишешь В такую ночь – и ты погиб. В сосне надломленной услышишь Колёс, полозьев, вёсел скрип. Чтобы с судьбой не разминуться, Уйдёшь куда глаза глядят, Как будто осенью вернуться И впрямь сумеешь ты назад.  Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. |